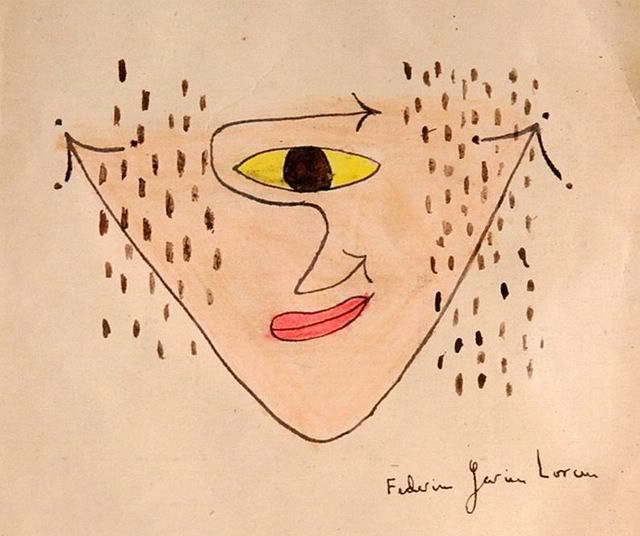La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantaritos blancos.
читать дальше
 просуществовать, а если там еще что-то серьезнее вывиха...
просуществовать, а если там еще что-то серьезнее вывиха... 


 )
) ) в Гавану. Известно, как он полюбил Кубу за те три месяца, которые там прожил -- которые ему предстоит там прожить.)
) в Гавану. Известно, как он полюбил Кубу за те три месяца, которые там прожил -- которые ему предстоит там прожить.)